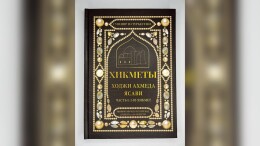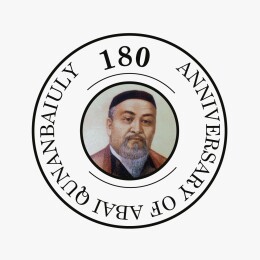Каждый год, когда наступает 27 марта, мир отмечает Международный день театра. В этот день во всех уголках планеты говорят о магии сцены, о вечной силе искусства перевоплощения. Казахстан – не исключение: здесь, под высоким степным небом, театр давно стал не просто видом искусства, а живым свидетельством истории, зеркалом души народа. Празднуя Международный день театра, казахстанцы неизменно вспоминают долгий и непростой путь, пройденный национальной сценой, и тех мастеров, кто наполнил ее дыханием жизни. Для нашей страны театр – не только развлечение, но и предмет особого почтения: в нем видят хранителя языка и культуры, живую связь времен.
Еще задолго до появления профессиональных подмостков казахская земля знала радость коллективного переживания и сопереживания, присущего театру. Кочевые традиции хранили свои прообразы спектаклей – народные обряды (свадебные песнопения, обряды перехода), песенные состязания акынов, импровизации жырау, сатирические рассказы о плуте Алдар-Косе. На импровизированных «сценах» – то на праздничном тойе под открытым небом, то в просторной юрте – разыгрывались драматические судьбы героев народных легенд, исполнялись песни и кюи, смешили народ остроумцы-акинды. Все это было словно прологом к будущему театру, рассеянные искры которого вспыхнули ярким пламенем в начале XX века.
Во второй половине XIX века в степной край стали проникать традиции русского театра. В городах Оренбург, Омск, Верный (Алматы) открывались драматические труппы и общедоступные театры, правда, репертуар и актерский состав в них были русскими. Образованные казахи посещали эти спектакли и кружки, приобщаясь к новому для них виду искусства. В 1906 году, например, в Петропавловске гастролировала татарская труппа, показавшая пьесы на понятном тюркском языке – это выступление произвело фурор среди местной казахской публики. В Семипалатинске и других городах возникали первые самодеятельные драматические кружки, где ставились даже произведения мировой драматургии – так, в Аулие-Ате энтузиасты попытались сыграть горьковскую пьесу «На дне». Почва для рождения казахского профессионального театра была постепенно и основательно подготовлена.
Первой такой искрой стала легендарная премьера трагедии «Енлик – Кебек» Мухтара Ауэзова. В 1917 году, еще до официального основания каких-либо театров, молодой Ауэзов собрал энтузиастов в ауле жены великого Абая – Айгерим. В простой юрте они показали историю запретной любви Енлик и Кебека, разыграв первую казахскую пьесу для сельских зрителей. Этот любительский спектакль, прошедший под шелест ковров и трепет керосиновых ламп, стал символическим началом казахской драматургии. Он доказал, что казахское слово способно звучать со сцены, что традиционные легенды можно оживить в диалогах и образах.
Спустя несколько лет, когда бурные ветры революции переменили судьбу целой страны, пришло время и для рождения профессионального театра. В молодой Советской республике Казахстан к развитию культуры подходили с особым вниманием – искусство должно было служить просвещению народа. И вот 13 января 1926 года в тогдашней столице Кызыл-Орде торжественно распахнул занавес первый Казахский государственный драматический театр. В зале собрались представители интеллигенции, поэты, партийные деятели, простые рабочие и пастухи, привлеченные невиданным ранее зрелищем на родном языке. Открытие сопровождалось концертом народной музыки, а в качестве первой постановки зрителям представили пьесу «Алтын сақа» – веселую сценку о деревенской жизни, написанную одним из первых казахских драматургов Кошке Кеменгеровым. Также в программу вечера вошел отрывок из «Енлик – Кебек», той самой трагедии любви, что уже успела полюбиться публике. Так родилась новая традиция – национальный театр, обретший свой дом. Первый спектакль завершился бурными аплодисментами – газеты Кызыл-Орды тогда писали о рождении нового искусства. В юртах и городских квартирах еще долго спорили и восхищались увиденным: казахский народ получил свой театр.
Необстрелянная молодая труппа состояла из самоучек, вчерашних самодеятельных артистов и народных певцов. У истоков казахской сцены стояли поистине легендарные личности: Жумат Шанин – первый режиссер, энтузиаст, мечтавший о возрождении народного искусства; Иса Байзаков – певец и поэт, привнесший в игру дух фольклора; Амре Кашаубаев – прославленный тенор-импровизатор, чье пение покорило даже Париж, а в родном театре оно звучало как голос самой степи. Вместе с ними первыми актерами стали Калибек Куанышпаев, Серке Кожамкулов, Курманбек Джандарбеков, Елюбай Умурзаков и другие самородки. У них не было академического образования, но была пламенная вера в искусство. Они учились в процессе каждой репетиции, перенимая друг у друга опыт, и постепенно рождался уникальный стиль казахской актерской игры – искренний, эмоциональный, основанный на синтезе европейской драмы и родных устных традиций.
Первые же пьесы, поставленные на сцене Казахского государственного театра, отражали дух времени и жизнь народа. Молодая казахская драматургия стремилась одновременно воспевать новую советскую действительность и осмысливать прошлое. Так, Сакен Сейфуллин писал пьесы о революционных переменах: драма «Красные соколы» показывала борьбу и надежды нового общества. С другой стороны, Мухтар Ауэзов в трагедии «Қарагөз» и социальной драме «Бәйбіше – тоқал» обращался к темам традиционного уклада, к трагическим судьбам женщин в патриархальном ауле, к пережиткам старых обычаев. Беимбет Майлин, известный прозаик, на театральных подмостках высмеивал невежество и жадность в комедиях «Бракосочетание» и «Хитрый мулла». Эти постановки говорили со зрителем на понятном языке – языке самой жизни, в котором сплетались боль и смех, старое и новое. Зритель видел на сцене самого себя: вчерашнего кочевника, вступившего в новый мир со всеми его противоречиями.
К 1930-м годам казахский театр окреп и стал привлекать внимание режиссеров и художников из других городов. В Алма-Ату (Алматы) – новую столицу, куда театр переехал в 1928 году – приехали опытные мастера из русского театра, чтобы помочь молодой труппе освоить сложные жанры. Благодаря сотрудничеству с режиссерами Михаилом Насоновым, Исааком Боровым и художником Канафией Ходжиковым на сцене появились первые классические постановки. Казахский зритель впервые увидел гоголевского «Ревизора» – сатирическую комедию о чиновниках, злободневную и понятную и в азиатской глубинке. Вскоре последовали шекспировские страсти: трагедия «Отелло» зазвучала на казахском языке, обогащая национальную культуру великим мировым наследием. Публика отнеслась к этим новинкам с огромным интересом. «Ревизор» вызывал и смех, и горькие усмешки – слишком узнаваемыми оказались пороки, высмеянные Гоголем. А шекспировские строки, прозвучавшие на языке Абая, убедили всех, что казахская речь может передать глубину мировых страстей не менее мощно, чем оригинал. Одновременно театр не забывал и собственную историю: в эти же годы 30-х были поставлены драматические полотна о героях прошлого. Пьеса «Исатай – Махамбет» повествовала о восстании батыров против социальной несправедливости, а лирическая драма «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» Габита Мусрепова возвращала к древней легенде о вечной любви, словно казахская версия «Ромео и Джульетты». Театр смело расширял рамки репертуара – от бытовых сценок и агитационных пьес первых лет до шедевров мировой классики и национальных эпосов.
Любопытно, что в 1934 году часть артистов драматической труппы, увлеченных музыкальным искусством, выделилась в самостоятельный коллектив – так зародился Казахский театр оперы и балета. С этого времени театральное искусство Казахстана развивалось параллельно в двух направлениях – драматическом и музыкальном – которые обогащали друг друга. В это же время росло и общественное признание театра. В 1937 году Казахский государственный театр драмы получил почетный статус академического, став именоваться Академическим театром драмы. Это было признание его высокого уровня и заслуг в развитии культуры. Однако конец 30-х был омрачен трагическими событиями: сталинские репрессии не обошли стороной и деятелей искусства. Жумат Шанин, стоявший у истоков театра, был безвинно репрессирован, как и некоторые другие талантливые актеры и писатели тех лет. Но, несмотря на эти удары, театр выстоял – сцена продолжала жить, словно вечный огонь, который пытались затушить ветрами истории, но он лишь разгорался сильнее.
В годы Великой Отечественной войны казахский театр стал духовным оплотом для народа. Пока лучшие сыны и дочери Казахстана сражались на фронтах, артисты на родной сцене и в тылу поднимали дух зрителей, собирали средства на оборону, дарили надежду. Многие артисты сами ушли добровольцами на фронт, другие в составе концертных бригад выступали в госпиталях и на передовой, превращая импровизированные сцены под открытым небом в источник поддержки для солдат. Репертуар военных лет проникнут патриотизмом: ставились пьесы о героизме советских людей, о стойкости и чести. Мухтар Ауэзов в драме «В час испытаний» показывал семью, провожающую сына на фронт и ожидающую вестей – эта пьеса заставляла зал затаить дыхание и верить в победу. Пьеса «Гвардия чести», написанная совместно Ауэзовым и Абишевым, прославляла подвиг панфиловцев под Москвой, ставший легендой. Не забывали и о национальной классике: в 1942 году, несмотря на тяготы времени, была поставлена музыкально-драматическая поэма «Ахан-сері – Ақтоқты» Габита Мусрепова – трагическая история певца и его возлюбленной, напоминавшая, за что солдаты на фронте борются, какие красоты жизни защищают. А для улыбки и облегчения сердца в разгар войны на сцене шел даже жизнерадостный шекспировский водевиль «Укрощение строптивой» – смех порой не менее ценен на войне, чем патроны. Театр не прекращал работу ни на день, и даже затемненный по ночам город Алма-Ата знал: свет лампы на сцене не погаснет, пока живо искусство.
Победа принесла стране радость и новые надежды, и на театральных подмостках наступил новый акт истории. В послевоенные годы Казахский академический театр драмы вновь обратился к темам мирной жизни, нравственным исканиям и истории. На сцене расцвели образы, рожденные в воображении новых драматургов и классиков литературы. В 1949 году блестящей постановкой романа «Абай» Мухтара Ауэзова театр увековечил образ великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева, и этот спектакль был удостоен Государственной премии СССР – высшего признания для театра того времени. Одновременно шла работа над произведениями русской классики: драмы Островского «Гроза» и «Таланты и поклонники» знакомили казахстанского зрителя с глубокими психологическими сюжетами о любви, долге и свободе. Комедия Мольера «Скупой», поставленная в начале 50-х, учила смеяться над человеческой жадностью – и казалось, персонажи французского классика легко перекочевали в реалии любого восточного города.
К середине XX века национальная сцена воспитала целую плеяду блистательных актеров и актрис, для которых театр стал судьбой. Их имена до сих пор произносятся с любовью и уважением: Хадиша Букеева – грация казахской сцены, блиставшая в трагических и комедийных ролях; Шолпан Джандарбекова – одна из первых народных артисток, чье сценическое обаяние покорило тысячи сердец; Серке Кожамкулов – живое воплощение народного юмора, чьи персонажи говорили голосом простого человека. Эти мастера стали легендами при жизни, они воспитали и следующие поколения артистов. Шакен Айманов, начавший актером, в послевоенные годы поставил на сцене пьесы «Дружба и любовь», «Цвети, степь!» – истории о простых людях, становящихся героями труда и совести. Позже Айманов уйдет в кинематограф и станет классиком казахского кино, но фундамент его творчества закладывался именно на театральных подмостках.
В 1960-е годы ветер перемен вновь коснулся театрального искусства Казахстана. Оттепель позволила драматургам смелее обращаться к историческим темам, к внутреннему миру личности. Появились пьесы, ранее немыслимые: о трагедии репрессий, о судьбах интеллигенции. Так, Шахмет Хусаинов написал драму «Трудные судьбы», раскрывая драму поколения, переломанного 1930-ми годами. Театр ставил и новые произведения молодых авторов: трогательная пьеса Тахави Ахтанова «Сәуле» рассказывала о девушке, ищущей свой путь в жизни, а его же драма «Боран» аллегорически показывала непростые моральные испытания, выпадающие на долю человека. Калтай Мухамеджанов привнес в репертуар глубокие социально-философские драмы: его пьеса «Волчонок под шапкой» метафорично говорила о двуличии и трусости, а «На чужбине» затрагивала тему человека, потерявшего корни. В эти годы казахстанская сцена была в диалоге не только с собственной аудиторией, но и со всем советским пространством: ставились произведения Чингиза Айтматова («Материнское поле»), музыкальные драмы татарских и узбекских авторов – это обогащало опыт актеров. Театр стал площадкой культурного обмена, где встретились разные языки и традиции, объединенные языком искусства.
В знак признания заслуг корифеев, главный театр страны в 1961 году получил имя Мухтара Ауэзова – с тех пор старейшая сцена Казахстана гордо носит имя великого драматурга. Следующие десятилетия – 1970-е и 1980-е – стали временем зрелости и высоких достижений казахского театра. Режиссеры того периода, такие как Азербайжан Мамбетов и Рубен Андриасян, стремились к современному прочтению классики и созданию визуально ярких постановок. Одной из жемчужин репертуара стала трагедия «Кровавая свадьба» по Лорке – экспрессивный спектакль, где андалузские страсти звучали в унисон с восточной эмоциональностью. Ставились и авангардные пьесы, и психологические драмы, исследующие человека в меняющемся мире. Каждая премьера тех лет становилась событием: будь то философская притча «Восхождение на Фудзияму» по Аитматову и Мухамеджанову, поднимающая вопросы долга художника перед народом, или глубокая драма «Сердце поэта» Шашкина о трагической судьбе поэта-просветителя. Казахский зритель шел в театр как в храм искусства – аншлаги стали привычным делом, а отзывы в прессе сравнивали актерскую игру с тончайшей работой ювелира. Не раз лучшие спектакли казахской драмы показывались на гастролях в Москве и других городах Союза – каждое такое выступление неизменно проходило с аншлагом. Искушенная столичная публика аплодировала самобытной режиссуре и таланту наших актеров, а для казахского искусства такие гастроли становились триумфом: национальная культура уверенно заявила о себе на всесоюзном уровне. Неудивительно, что именно в эти годы для главного театра республики возвели новое роскошное здание в Алма-Ате: в 1981 году на проспекте Абая вырос величественный дворец драмы, украшенный национальными орнаментами, барельефами и колоннами. Этот архитектурный шедевр стал домом для казахской труппы и символом того, что театр в Казахстане – одно из важнейших искусств. В просторном зале нового театра тысячи зрителей нашли вдохновение, сопереживая героям сотен спектаклей. Перед главным входом установлена скульптура самого Ауэзова – великий драматург словно встречает посетителей, напоминая о непреходящей ценности искусства.
Распад Советского Союза и обретение Казахстаном независимости в 1991 году открыли перед театром как новые горизонты, так и новые испытания. С одной стороны, исчезла идеологическая цензура – сцена заговорила о том, что ранее замалчивалось. В 90-е годы драматурги смело взялись за болезненные темы истории: о сталинских репрессиях, о судьбах депортированных народов, о духовных поисках в смутное постсоветское время. В репертуаре появились пьесы, переосмысляющие национальную историю: например, поэтическая драма «Чингисхан» современного автора, известного под псевдонимом Иран-Гайып, и историческая фантазия «Томирис» о сакской царице. Народный поэт Олжас Сулейменов попробовал себя в драматургии, и его пьеса «Седьмая палата» предложила зрителю метафоричное осмысление общества, словно больного, находящегося на излечении. Театр больше не опасался говорить притчами о наболевшем, и зритель тянулся к этим честным разговорам со сцены. С другой стороны, экономические трудности 90-х отразились и на театральной сфере: сократились бюджеты, некоторым театрам приходилось выживать энтузиазмом одних лишь подвижников. И все же, несмотря на все кризисы, казахстанский театр не угас – наоборот, искал новые формы, чтобы привлечь публику. Появились и первые независимые частные театральные труппы, экспериментальные студии, которые расширяли палитру жанров – от пластических спектаклей до остросоциальных пьес.
В новое тысячелетие казахский театр вступил, окрепнув и обретя новое дыхание. Государство стало уделять больше внимания культуре, понимая, что без духовных основ трудно строить будущее. В крупнейших городах были открыты новые современные театральные здания. Столица, перенесенная в Астану, обзавелась собственным казахским драматическим театром имени Калибека Куанышбаева – того самого актера-легенды из первых поколений. Основанный в год независимости (1991), этот театр долго ютился в скромном помещении, но к 2020 году получил новую величественную сцену: новое красивейшее здание, сочетающее национальные мотивы и современную архитектуру, распахнуло двери для зрителей. Это событие стало знаком того, что театральное искусство вновь ценится на самом высоком уровне. В Алматы, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и других городах страны обновляются и строятся театры – сегодня в стране насчитывается более тридцати профессиональных театров. Наряду с казахскими драматическими театрами действуют русские драмы, работает Уйгурский театр музыкальной комедии, Корейский театр, Немецкий драматический театр в Темиртау. Эта многонациональная палитра культур нашла отражение и на сцене страны. Кроме того, работают театры юного зрителя и несколько кукольных театров – искусство сцены охватывает все возрасты. Но сердце казахстанского театра по-прежнему бьется на государственном языке – на казахской сцене, куда по-прежнему стремится зритель всей душой.
Сегодня высокий уровень показывают не только столичные сцены – актеры региональных театров, будь то в Атырау, Шымкенте или Актау, также завоевывают признание и любовь публики. Символично, что в 2020 году Указом Президента старейшему Академическому театру драмы было присвоено звание «Национальный». Это официальное признание подчеркнуло особую роль сцены в жизни независимого Казахстана.
Современный казахский драматургический репертуар сочетает классику и новаторство. На столичной и алматинской сценах ставят Шекспира и Чехова рядом с пьесами молодых отечественных авторов. Произведения Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова, Сакена Сейфуллина – все эти классики по-прежнему живут в современном прочтении, перекликаясь с днем сегодняшним. Молодые смелые режиссеры осваивают новые технологии: видеопроекции, световые инсталляции, но в центре по-прежнему остается живая игра актера, тот самый магический миг, когда гаснет свет в зале и открывается занавес. Зритель XXI века – требовательный и искушенный – идет в театр за особым опытом, которого не даст кино или интернет. И казахский театр старается этот опыт подарить. Появляются современные пьесы на злобу дня – о проблемах городской жизни, о сохранении родного языка, о конфликте поколений. Но так же, как и столетие назад, сцена не боится говорить и о вечном: о любви и чести, о памяти предков, о связи времен. Недаром на афишах можно увидеть названия, отсылающие к эпосу и истории, рядом с экспериментальными названиями современных постановок. При этом на сцену по-прежнему выходят и живые легенды – например, народный артист Асанали Ашимов, чье имя само стало символом казахстанского театра. Уже шесть десятилетий он выступает перед публикой, воплощая образцы актерского мастерства и передавая свой бесценный опыт молодому поколению.
Что же особенного дает театр современному зрителю? Видимо, тайна кроется в магии живого общения. Каждый спектакль – неповторимое действо: актер и публика дышат одним воздухом, переживая каждую сцену вместе, здесь и сейчас. Ни кино, ни интернет не способны заменить тот взгляд глаза в глаза, тот мгновенный отклик, который рождается между залом и сценой. В театре время течет иначе: два-три часа мы живем чужой судьбой, чтобы острее почувствовать и собственную. Для народа, привыкшего еще со времен кочевья слушать у костра песни и легенды, живой голос актера на подмостках – естественное продолжение традиции эмоционального единения. Вот почему даже в XXI веке театр остается храмом души, куда идут не просто за развлечением, а за откровением и катарсисом.
Международный день театра, который Казахстан отмечает вместе со всем миром, – это повод оглянуться на пройденный путь и взглянуть вперед. Почти век отделяет нас от той январской ночи 1926 года, когда раздались первые аплодисменты казахской труппе. За это время театр пережил войны и смену эпох, трижды сменил столицу, породил целую галерею знаменитых имен. Но одно остается неизменным: трепет, с которым актер выходит на сцену, и восторг, с которым зритель в зале ловит каждое слово. Казахский театр прошел путь от самодеятельной юрты до современных дворцов искусства, но в каждом своем воплощении он хранил душу народа. Это больше, чем искусство – это культурный код, живая память, связывающая поколения. За десятилетия сцена стала и хранительницей родного языка: в те периоды, когда в городах казахская речь звучала все реже, именно театральные постановки напоминали о ее красоте и силе. Переводы мировой классики обогащали казахскую речь новыми красками, а блестящие монологи и диалоги героев воспитывали культуру живого слова у новых поколений. И когда 27 марта на сценах страны загораются софиты и раздаются торжественные речи в честь праздника, а также вручаются профессиональные награды – например, ежегодная премия «Еңлікгүл» лучшим актерам и режиссерам, в каждом театре Казахстана – будь то старейшая алматинская драма или маленький самодеятельный кружок в ауле – звучит единый мотив: любовь к сцене, уважение к актерскому труду и вера в то, что театр как феномен культуры переживет любые времена. Ведь как сказал классик, весь мир – театр, а театр для казахстанцев – это целый мир, со своими героями, историями и надеждами, наш общий дом, куда всегда хочется возвращаться, аплодируя стоя. И сколько бы ни менялся окружающий мир, занавес казахстанского театра еще не раз поднимется, приглашая нас в свое волшебное пространство.